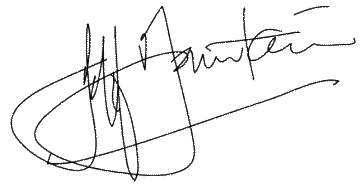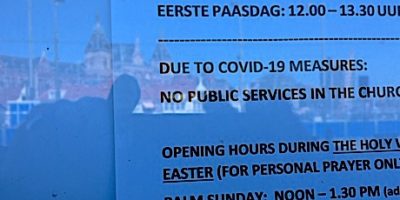Пир Валтасара был грандиозным проявлением богатства, власти и гедонизма. Жёны и наложницы царя развлекали тысячу гостей, вино подавалось в золотых и серебряных сосудах из Иерусалимского храма.
Внезапно появилась кисть человеческой руки и стала писать на стене. Вызванный, чтобы объяснить загадку надписи «МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН», Даниил произносит приговор вавилонскому царю: «Ты взвешен на весах и найден очень лёгким». В ту же ночь, как написано в пятой главе книги пророка Даниила, Валтасар был убит, и войска мидян и персов вошли в город. Вечеринка закончилась.
На картине Рембрандта, написанной в 1635 году, очень хорошо ощущается страх на лице Валтасара и его гостей, глаза которых выпучены, как кнопки органных регистров. Художник изобразил царя в роскошных одеждах богатого и экстравагантно амстердамского купца, жившего в период расцвета Золотого века, когда открытия, торговля и рабство сделали молодые Нидерланды самым богатым и мощным государством на земле. Предупреждал ли Рембрандт своих соотечественников о мимолётности богатства, власти и удовольствий?
Для Валтасара конец наступил в одночасье. Для Нидерландов Rampjaar — год бедствий – наступил в 1672 году, поколение спустя после написания картины, когда республика была разорена армиями Англии, Франции и епископства Мюнстера и Кёльна. Голландская поговорка гласит, что «люди неразумны, правительство безнадёжно, земля не подлежит спасению» (het volk redeloos, de regering rateloos en het reddeloos). На семнадцать месяцев банки, школы, магазины, суды и концерт-холлы были закрыты. Многие разорились. На восстановление потребовались десятилетия.
Мораль
Будут ли историки будущего вспоминать этот «корона-год» как «конец вечеринки», «rampjaar»? Внезапно мы выпали из «нормальной жизни» и погрузились в неясный, неопределенный период изоляции и нарушенного привычного уклада. Физическое здоровье, экономическое здоровье, психическое здоровье, политическое здоровье, здоровье семьи, социальное здоровье — всё это поставлено на карту.
Созидательные реакции, юмор, доброжелательность и коллективные аплодисменты нашим медикам-героям, работающих над тем, чтобы свести бедствие к минимуму, помогли нам пережить первые две недели после осознания жёстких реалий. Но что, если это затянется на два месяца? шесть месяцев? или, не дай Бог, семнадцать месяцев года бедствий Rampjaar? Имеют ли сегодня наши общины и общества достаточно общих ценностей, чтобы не допустить возникновения социальных волнений?
Еще до кризиса, связанного с коронавирусом, многие выражали тревогу по поводу того, что Джонатан Сакс называет «культурным изменением климата», в котором мы живем. Такие книги, как The strange death of Europe («Странная смерть Европы» ), The suicide of the West («Самоубийство Запада»), The decadent society («Декадентское общество»), This is how democracies die («Так умирают демократии») и The fate of the West («Судьба Запада») говорят о западной культуре как о «деморализованной, декадентской, дефляционной, демографически сложной, разделенной, дезинтегрирующей, дисфункциональной и приходящей в упадок».
В своей недавно опубликованной Morality («Мораль», замечательное чтение в такое время) Сакс объясняет, что рыночная экономика и либеральные демократии сами по себе не могут гарантировать нам свободу. Мораль — это недостающее измерение, существенное для свободы, пишет он, цитируя Джона Локка, который противопоставлял свободу, свободу делать то, что мы должны, разрешению, праву делать то, что мы хотим. Рынки и экономика конкурентоспособны. Мораль общая. Мораль — это совесть общества, приверженность общему благу, которая регулирует наше стремление к личной выгоде. Общество образовывается общей моралью и создаёт доверие.
Возможность
По словам Сакса, истина о том, что свободное общество — это моральное достижение, была забыта, проигнорирована или опровергнута после моральной революции 1960-х годов. С тех пор, утверждает он, единственное основное изменение в нравственном облике Запада привело к появлению групп идентичности, коллективной жертве, одиночеству, уязвимости, депрессии, употреблению наркотиков, безжалостным рынкам, поляризованной политике, растущему экономическому равенству и нетерпимости к свободе слова в университетах. Это долгосрочные последствия перехода от «мы» к «я». Социальная изоляция заменила общину.
До переломного периода 60-х годов западные открытые общества были плюралистическими, основанными на ценностях свободы, равенства, демократии, верховенства закона и прав человека. Это был ограниченный плюрализм «мы», который был заменен гораздо более радикальным плюрализмом «я», оторванным от исторического иудейско-христианского консенсуса. Человек был просто суверенной волей, автономной личностью, произвольным центром воли, свободным делать мир и себя тем, что он решит. Сакс цитирует исследования, показывающие, что употребление «я» возросло за последние полвека, а «мы» — сократилось. Там, где предыдущие премьер-министры употребляли королевское «мы», Борис Джонсон употреблял невероятное количество «я» во время дебатов по Brexit.
Угрожая разорвать общество на части, беспрецедентная проблема корона-кризиса предоставляет также возможность. Внезапно мы все осознали нашу общую уязвимость. Никогда в истории человечества наши судьбы не были так тесно взаимосвязаны — всех семи с лишним миллиардов человек на этой планете. Наша зависимость друг от друга и общественных систем — местных, национальных и глобальных — стала очевидной.
Может ли самоизоляция привести к возрождению «мы»?
Одержит ли «мы» победу?
До следующей недели,